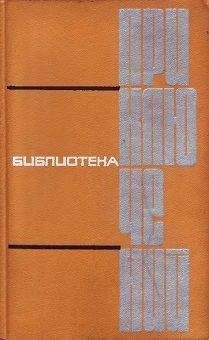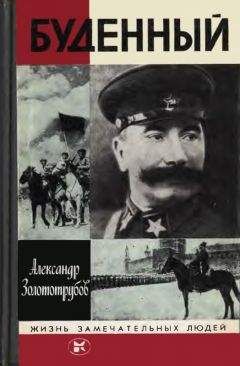Александр Листовский - Конармия[Часть первая]
Получив утвердительный ответ, Тимошенко присел на лавку, с любопытством в глазах оглядел своего собеседника и предложил ему папиросу.
— Очень рад познакомиться с вами, товарищ, — продолжал Тимошенко, несколько недоумевая, почему Городовиков так мрачно глядит на него.
«Папиросы! — думал тот. — Ишь, барин какой! И откуда он взялся?»
Собственно, Городовиков знал, что несколько дней тому назад из Сальской степи подошел новый полк. «Не командир ли этого полка?» — подумал он и умышленно грубовато спросил:
— Ты что — офицер?
— Нет. Бывший унтер-офицер Мариупольского гусарского, — с легкой улыбкой отвечал Тимошенко, догадываясь, почему Городовиков так угрюмо смотрел на него. — Я вижу, дружище, тебя моя одежда смущает? Ничего. У меня весь полк одет хорошо.
— А с дисциплиной как?
— И с дисциплиной хорошо.
— Иди ты? — удивился Городовиков.
— А как же! Я строгий. Конечно, в полку бузотеров хватает. Не без этого. Но у меня с ними разговор короткий. Не хочешь служить, как полагается, уходи из полка.
— Иди ты?
— А как же! Поганую овцу из стада вон… Конечно, это не выход. Надо перевоспитывать. Но на всех меня с комиссаром не хватит. Вот товарищ Ворошилов обещает дать рабочих-коммунистов. Тогда будет полегче.
— Да-а… — Городовиков с досадой поморщился. — Вот и Семен Михайлович требует: «подай дисциплину».
— Ну и что? Не совсем получается? — догадался Тимошенко.
В дверь постучали. Вошел Дерпа. Он только что был назначен старшиной эскадрона и теперь держался чрезвычайно степенно. Приложив руку к фуражке, Дерпа доложил о прибытии.
— Оглоблей дрался? — коротко спросил Городовиков.
— Оглоблей? — Дерпа отрицательно покачал головой. — Извиняемось, товарищ комполка, никакой драки не было. Так, постращал малость. А не возьмись я за оглоблю, так их по другому разу расстрелять бы пришлось.
— А ну расскажи, — потребовал Городовиков.
Дерпа сказал, что по случаю стоянки он отпустил погулять несколько человек. Двое из них поймали поросенка и трех гусей.
Он решил на первый раз поучить безобразников и собрал их вместе с товарищами в сарае. Крикуны, как обычно, начали требовать митинг. Тогда он взял оглоблю от повозки и объявил митинг открытым. Увидя это, виновные стали просить прощения и обещали больше не безобразничать.
— Вот и всего дела, — говорил Дерпа. — Разве я несознательный элемент, товарищ комполка, чтобы оглоблей драться? Сами очень даже хорошо понимаем что к чему. Ничего. Теперь будут бояться… Что же касается до боя, то ребята отчаянные…
Городовиков в раздумье смотрел на него.
— Ну ладно, ступай. Да смотри у меня! — сказал он сердито.
Дерна вышел.
Тимошенко чувствовал, что Городовикову был неприятен весь этот разговор при новом человеке, и хотя его подмывало спросить, что представляет собой так понравившийся ему богатырь, он воздержался.
— Товарищ Городовиков, — заговорил он, помолчав, — ведь я к тебе по важному делу. — И он рассказал, как во время движения к Царицыну под ним убили лошадь. Это был замечательный конь, которого он вел с германского фронта. Теперь ему не на чем ездить. А вот у Городовикова, как он слышал, целых три лошади, одна лучше другой. Не уступит ли он одну из них временно?
У Городовикова действительно было три лошади. Последнюю, большую гнедую, как раз под рост Тимошенко, он взял в бою под Аксайском и, конечно, никому бы ее не отдал. Но сидевший перед ним спокойный, рассудительный командир начал ему положительно нравиться, и он тут же решил отдать ему лошадь. «Ну что ж, — думал он, — пусть себе пользуется. А если хорошо себя покажет в бою, то и совсем отдам».
— Ладно, бери гнедую, — сказал он добродушно. И от этих слов ему вдруг стало приятно и радостно. — Хороша лошадка. Шесть вершков. Аккурат под тебя. Спасибо скажешь.
И уже не отказываясь от вновь предложенной ему папиросы, он заявил, что бойцы очень долгое время не видели не только папирос, но и махорки. Курят они самосад, употребляемый жителями для мытья овец. Табак, конечно, ничего, курить можно. Только от одной затяжки глаза уходят под лоб…
Было около шести часов утра. На дворе в предрассветном мраке копошились какие-то люди. Слышались приглушенные голоса, постукивание копыт, звуки воды, льющейся в колодезное корыто. Неяркий свет из углового окна широкой полоской падал на телегу с привязанными к ней лошадьми.
Иона Фролов подкинул сена в телегу и, придерживая шашку, приоткрыл дверь в хату. Казаки пили чай вокруг шумевшего самовара. Один из них, худощавый, рассказывал:
— … Вот, значит, тут мы в атаку пошли. Скачу, вижу, юнак, мальчишка. Ну, я его пожалел и плашмя по шее. А он, видно, подумал, что я промазал, и на меня сзади. «Дурак, — думаю, — мне надо, чтобы ты тикал, а не рубить». Ну, раз дело такое — я развернулся и… — Рассказчик быстро переменил разговор при виде урядника. — Вот едем мы, значит, едем кустарником. Урочище Корочихин Кут — то место называется. Это аж за широкой балкой. Да. Только глядим, навстречу бабка верхом. Старая такая бабка. Лет семьдесят, а может, и больше. А конь у ней — прямо картина. Сразу видно — самых чистых донских кровей. Весь, скажи, золотой. Шею выгнул. Хвост дудкой.
— А ну подвиньтесь! — грубо сказал Иона Фролов. — Ну, кому говорю? — Он присел к столу и, потянувшись, налил кипятку в железную кружку.
— Да, — продолжал рассказчик. — Ну тут Семушкин, который под Кагальником убитый, и говорит: «Давай, ребята, сменяем коня». Мы до бабки. А она повернула — и ходу. Птицей летит! Мы за ней. А она свернула в огороды да как махнет через плетень! А в нем больше сажени. Только ее и видали. И скажи, какая окаянная бабка. Уже совсем старая, а на коне сидит, как казак!
— А у нас как девчата ездили! — подхватил совсем молодой казачок с румяным лицом. — Бывало, в германскую войну с поля едут, построятся баб шестьдесят, да с песнями. А потом как рванут наметом! Аж дым идет.
— У кого, ребята, сахар есть? — спросил Иона Фролов.
Казаки переглянулись.
— Да вроде весь вышел, господин старший урядник, — сказал худощавый казак, тая насмешливую искру в карих глазах.
— Тогда и чай пить не стоит! — Фролов потеребил черную бороду, огляделся и, приметив на лежанке спавшего кота, плеснул на него кипятком. Кот с диким воем метнулся под лавку.
— Ишь, чертова собака! — зло сказал Фролов. Он поднялся, поправил висевший сбоку револьвер и, сильно хлопнув дверью, вышел из хаты.
— Сам себя и обругал, змей, — сказал худощавый казак. — Ишь ты! Сахару ему дай, коже лупу. Привык в станице с людей шкуру снимать. Жила чертова. Он, как милиционера Долгополова в Платовской убили, все его добро себе забрал. — Казак пошарил в кармане и достал кусок сахару. — Да я лучше этот сахар коню скормлю, чем ему дам.
— Энтот дюже хорошо знает, за что воюет, — сказал молодой казак. — Воевать-то против народа…
Худощавый строго посмотрел на него.
— Ты, Аниська, не дури. Попридержи язык-то, — произнес он, нахмурившись. — Знаешь, что полагается за такие твои слова?
— А ты что, дядя Осип, уряднику скажешь? Ну?
— Я не доносчик. Я так говорю. Упреждаю. Знаешь, сколько наших пропало за такие подобные речи?
— Кабы знать… — с неопределенным видом тихо сказал сидевший под образами пожилой казак с серьгой в ухе.
Эх, каб Волга-матушка
Да вспять побежала.
Эх, каб можно, братцы,
Жить начать сначала, —
проговорил он при общем молчании, словно подытоживая свои мрачные мысли…
Проделав ночной марш при резком встречном ветре, князь Тундутов был сильно не в духе. Это сразу же почувствовали штабные, заметив, что в голосе князя начали проскальзывать высокие нотки. Вдобавок Тундутову надуло в уши. Все это привело к тому, что князь зря избил денщика, изругал своего любимого адъютанта Красавина, переведенного к нему от генерала Попова, и пообещал всем показать, где раки зимуют.
Однако, когда он вошел в отведенный ему дом станичного атамана, в котором квартирьеры постарались как следует накалить печи, плохое настроение оставило его.
Благодушествуя, Тундутов ходил по жарко натопленной комнате. Сотник Красавин, наблюдавший в замочную скважину за поведением князя, подал знак стоявшей в коридоре толстой бабе, и та с поклоном внесла в комнату яичницу с салом, шипящую на горячей сковороде.
Позавтракав, Тундутов вспомнил, что еще вечером, перед самым выступлением в поход, ему передали свежие газеты. Теперь их можно было прочесть. Но ему не повезло. Едва он вместе с газетами забрался в постель и, предвкушая удовольствие, закурил папиросу, в дверь постучали.
— Да! — сказал Тундутов, вкладывая в это слово все свое неудовольствие.
Вошедший сотник Красавин доложил, что в станицу прибыли квартирьеры кавалерийской дивизии генерала Фицхалаурова и что сам генерал будет здесь минут через двадцать. Тундутов входил в подчинение Фицхалаурову, и ему волей-неволей приходилось теперь вылезать из-под теплого одеяла.
![Александр Листовский - Конармия [Часть первая]](/uploads/posts/books/239634/239634.jpg)